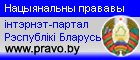Проф. Е.В. Петрухина
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Доц. Д.К. Поляков
РГГУ, Москва, Россия
В докладе анализируется система типовых маркеров, позволяющих фиксировать и классифицировать несоответствие действительности или представлениям о норме в русском языке в сопоставлении с чешским. В славянских языках большую роль в данной семантической области играют словообразовательные средства, обладающие целым рядом особенностей в сравнении с лексическими показателями.
В XX в. в лингвистике сформировалось целое направление, изучающее языковые средства выражения обмана и несоответствия действительности – «лингвистика лжи». В эпоху глобализации, информационного общества и развития новых компьютерных технологий данная проблема, тесно связанная с медиа- и интернет-средой, становится все острее. В специальных работах, посвященных концепту обмана, анализируется целый ряд номинаций лжи и фальсификации: ложь (lež), обман (klam, podvod), неправда (nepravda),фальшь (faleš), фейк (fake, fake news), фальшивка, фальсификат (falzifikát, falzum), контрафакт, подделка (padělek, podvrh), имитация (napodobenina), фикция (fikce), симулякр (simulakrum) и др. Но в работах данного направления обычно не рассматриваются словообразовательные средства со значением несоответствия действительности (норме, стандарту) и фальсификации. Между тем именно аффиксы и аффиксоиды выступают как типовые маркеры данной семантики – они и являются объектом нашего изучения.
Цели и задачи
Исследование направлено на выявление специфики выражения в сопоставляемых языках несоответствия действительности и норме словообразовательными средствами, что предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач: 1) установить типы распознанного несоответствия; 2) определить центральные (ядерные) и периферийные словообразовательные средства выражения семантических типов по данным национальных корпусов русского и чешского языков; 3) сопоставить частотность ядерных средств; 4) изучить в каждом языке соотношение заимствованных и исконных формантов; 5) исследовать взаимодействие формантов из смежных словообразовательных категорий и деривационные механизмы их функционального сближения в рамках соответствующей семантико-словообразовательной категории и др.
В обоих языках в выражении псевдореалий преобладают интернациональные аффиксы греческого или латинского происхождения (такие как префиксы квази-, quasi-/kvazi-, псевдо-, pseudo-, пара-, para-, суб-,sub- и др., суффикс -оид, -oid), свидетельствующие о том, что проблемы фикции, а также несоответствия норме издавна волновали человечество.Наше исследование показало, что в последние десятилетия их употребительность в русском и чешском языках растет. Активизация подобных префиксов отмечается и в английском языке (Z. Hamavand. TheSemantics of English Negative Prefixes. Sheffeld – Bristol. 2013). Все это соответствует тенденциям глобализации лексики в современных славянских языках и подтверждает новый этап «внутриславянского объединения», особенно ярко выраженного в словообразовании (Ohnheiser I. (red.) Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. I. Słowotwórstwo / Nominacja. Opole. S. 334). В данной семантической области вместе с интернациональными активизируются и исконные форманты (рус. лже-, недо-, вместо- и др.; чешск. lži-, pa-, rádoby-, také-/taky- и др.), функциональным и стилистическим особенностям которых в докладе также уделяется большое внимание.
Методы и языковой материал
Основным материалом для исследования послужили национальные корпуса русского и чешского языков. Для анализа русского материала был использован Национальный корпус русского языка (НКРЯ) объемом более283 млн. слов. Чешский материал почерпнут преимущественно из репрезентативного корпуса syn2015, включающего в себя более 100 млн. слов (из текстов 2010–2014 г.). При анализе частотности учитывались и другие подкорпуса, входящие в Чешский национальный корпус, а также чешская база неологизмов Neomat, где фиксируется новая лексика с начала 1990-х гг. Кроме того, был использован поиск в Интернете. Соответственно, при изучении частотности формантов и образованных с их помощью слов мы применяли методы корпусного анализа, позволившие объективировать наблюдения об активизации некоторых словообразовательных моделей, их конкуренции и стилистических особенностях.
Результаты
Комплекс интернациональных и исконных аффиксов и аффиксоидов обеспечивает детальную сегментацию маркировки несоответствия реальности или норме и позволяет компактно, словообразовательными средствами выразить актуальные смыслы. Несоответствие может быть нескольких типов: как 1) фальсификация, подмена или качественное несоответствие эталону, имитация (псевдо-, лже-, квази-, вместо-, недо-, фальш-; pseudo-, kvazi-, lži-, rádoby-, také-/taky-); 2) похожесть с качественными отличиями (квази-, псевдо-, -оид, эрзац-; kvazi-/quasi-, pseudo-, -oid, pa-, skoro-, téměř-); 3) более низкое или смежное положение в иерархии (суб-, под-, пара-, около-; sub-,pod-, para-); 4) отрицание тождества и противоположность (не-, анти-, противо- и др.; ne-, bez-, anti-, proti-, kontra-, vzdoro-, truc-); 5) качественно иная последующая фаза существования (мета-, пост-, после-; post-, po-); 6) выход за онтологические рамки стандарта (гипер-, транс-, сверх-; hyper-, nad-, trans-). Взаимодействие и конкуренция данных формантов описывается с использованием понятия семантико-словообразовательной категории(в дальнейшем ССК), которая формируется группой словообразовательных категорий на основе семантической общности (Э.П. Кадькалова. Семантика как фактор развития словообразовательных структур. В: Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции. Ужгород, 1991).
Как показало исследование, наиболее универсальным выразителем значения несоответствия реальности (стандарту, представлениям говорящего о норме) в обоих языках выступает префикс псевдо- (pseudo-). Обладая большим стилистическим и сочетаемостным потенциалом, он участвует в образовании как терминов, так и оценочных номинаций. Эта морфема употребляется в обоих корпусах более чем в 2 раза чаще, чем следующий по фреквенции элемент (для чешского это kvazi-/quasi-, для русского – лже-). При этом показательно, что из 543 обнаруженных лексем с префиксом pseudo-в чешском корпусе syn2015, 417 встречается всего 1 раз (77%). Для русского языка ситуация аналогичная: префикс псевдо- обладает практически свободной сочетаемостью, поэтому среди зафиксированных в НКРЯ производных с данным префиксом также преобладают слова с частотностью 1. Отметим, что большая часть низкочастотных дериватов с формантом псевдо- из НКРЯ не зафиксирована в русских словарях (например, псевдоулыбка, псевдолюбовь, псевдомолодежный).
Были выявлены функционально-стилистические различия между изоструктурными русскими и чешскими аффиксами: невозможность образования терминов с lži- в чешском языке – в то время как в русском это один из распространенных терминомаркеров (лжеакация, лжелиственница), а также маргинальный характер па- (пагруздь) в русском при более широком функционировании аналогичного форманта в чешском, включая возможность образования неологизмов paargument, paslovo). Специфической структурной чертой чешского языка является наличие ряда незаимствованных префиксоидов, конвертированных из других частей речи и не участвующих в образовании терминов. Наиболее частотными среди них являются rádoby- иskoro-: rádobyherec ‘псевдоактер’, skoromanžel ‘почти муж’, затем следуютtaké-/taky-, téměř-, jako-/jakoby-, различающиеся степенью экспрессивности.
Выводы
В обоих языках названные словообразовательные форманты и моделимогут выражать несоответствие реальности или норме любых объектов или свойств, которые называет мотивирующая база производного слова, тонко дифференцируя возможные типы несоответствия. Эта важная черта словообразовательных средств выражения анализируемой семантики объясняет их высокую употребительность в обоих сопоставляемых языках. Ядро соответствующей СКК образуют производные слова с греко-латинскими аффиксами псевдо-, квази-, -оид, pseudo-, kvazi-/quasi-, -oid, в русском языке к ядру можно отнести также префиксоид лже-.
Словообразовательный инвентарь ближней и дальней периферии данной СКК проявляет в русском и чешском языках черты как сходства, так и различия формантов по происхождению, по семантике, по функциональной и стилистической нагрузке.
Изучаемые аффиксы могут семантически сближаться, образовывая синонимичные производные, которые могут называть один и тот же объект и употребляться даже в рамках одной синтагмы (например, многочисленны случаи такого употребления лексем псевдонаука, квазинаука, ненаука, лженаука, антинаука, в чешском языке соответственно pseudověda, pavěda,antivěda, nevěda). Изучение словообразования на семантической основе выявляет также возможность сближения и пересечения в рамках рассматриваемой семантико-словообразовательной категории производных слов из других ССК. В обоих языках растет активность некоторых моделей, в частности с приставкой анти-, anti-, имеющей значение ‘отрицание тождества при наличии сходства’, нередко с положительной оценкой и дальнейшей терминологизацией (антишкола, антикафе, anticirkus, antiromán).
Осмысление того, какими способами в языке объективируется семантика неправдоподобия и несоответствия норме, особенно актуально сейчас, когда любая информация может быть сконструирована – а главное, тиражирована – вне зависимости от ее истинности. Наше исследование способствует изучению тонко дифференцированной системы маркировки такого несоответствия в русском и чешском языках.
_______________
*Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 17-04-00532-ОГН\18
E. Petrukhina, D. Polyakov
International and national affixes for the expression of pseudo-realia in Russian and Czech*
Prof. E. Petrukhina,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Associate prof. D. Polyakov
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia
Introduction
The report analyses the system of typical markers, which make it possible to record and classify discrepancy with the reality or the vision of the norm in Russian as compared to Czech. Word-formation means play a great role in this sematic sphere in Slavic languages, with a whole range of peculiarities in comparison with lexical indicators.
The XX century marked the development of a new branch in linguistics - the so-called “Linguistics of lying”, aimed to study linguistic means for the expression of lies, deception and discrepancy with the reality. In the era of globalization, information society and IT, the given problem, being closely related to media and Internet environment, is becoming even more acute. A number of special research devoted to the concept of deceit analyze a whole range of nominations of lies and falsification: ложь (lež), обман (klam, podvod), неправда (nepravda), фальшь (faleš), фейк (fake, fake news), фальшивка, фальсификат (falzifikát, falzum), контрафакт, подделка (padělek, podvrh), имитация (napodobenina), фикция (fikce), симулякр (simulakrum) etc. But such works normally do not considerword-formation means signifying discrepancy with the reality (norm or standard) and falsification. While it is the affixes and affixoids that serve as typical markersof the given semantic area. Thus, they present the object of the current research.
Aims and objectives
This research is aimed to reveal the peculiarities of the expression in the compared languages of discrepancy with the reality and the norm by word-formation means, which entails a number of interconnected objectives: 1) to establish the types of identified discrepancies; 2) to define the central (core) and peripheral word-formation means to express semantic types based on the data of National Corpus of Russian and Czech; 3) to compare the frequency of occurrence of core means; 4) to study in each of the languages the proportion of borrowed and original formants; 5) to study the interaction of formants from closely related word-formation categories and derivation mechanisms of their of which are closely regarded convergence in the framework of the given semantic-derivational category etc.
International affixes of Greek and Latin origin (such as prefixes квази-,quasi-/kvazi-, псевдо, pseudo-, пара-, para-, суб-,sub- and others, and suffixes -оид, -oid) prevail as means of expression of pseudo-realia in both languages. It goes to show that the problem of fiction as well as inconsistency with the norm have been on the agenda for a long time. Our research has shown that their use has been growing in both Russian and Czech in the past few decades. The actuation of such prefixes has been noticed in the English language as well (Z. Hamavand. The Semantics of English Negative Prefixes. Sheffeld – Bristol. 2013). The process correlates with the growing trend of globalization of lexis in modern Slavic languages and proves a new stage of “inter-Slavic association”, especially obvious in word-formation (Ohnheiser I. (red.) Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. I. Słowotwórstwo / Nominacja. Opole. S. 334). In this semantic sphere alongside with the international formants, original ones step up (Rus.: лже-, недо-, вместо- etc.; Czech.: lži, pa, rádoby-, také-/taky- etc.), functional and stylistic characteristics of which are closely regarded in the given study.
Methodology and language material
The main bulk of the material for the research has been provided by Russian and Czech National Corpora. The Russian National Corpus (RNC) (over 283 million words) has been used for the analysis of the material of the Russian language. The main source of Czech material was syn2015 representative corpus, comprising over 100 million words (from the texts of 2010-2014). The analysis of frequency was partly based on other subcorpora, which are part of the National Czech corpus as well as the Czech base of neologisms Neomat, which records new lexis from the early 1990-s. Besides, the authors applied Internet search. Correspondingly, in the study of the frequency of formants and words formed by their means we applied the methods of corpus analysis, which make it possible to objectivize the observations made on the activation of some derivation models, their competition and stylistic characteristics.
Research results
A complex of international and original affixes and affixoids provides for the detailed segmentation of marking the discrepancy with the reality or the norm and enables it to express actual denotations concisely by derivational means. The discrepancy can be classified into the following types: 1) falsification, substitution or a qualitative incompliance with the standard, or imitation (псевдо-, лже-, квази-,вместо-, недо-, фальш-; pseudo-, kvazi-, lži-, rádoby-, také-/taky-); 2) similarity with qualitative differences (квази-, псевдо-, -оид, эрзац-; kvazi-/quasi-, pseudo-, -oid, pa-, skoro-, téměř-); 3) a lower or neighboring position in the hierarchy (суб-,под-, пара-, около-; sub-, pod-, para-); 4) nonequivalence and opposition (не-,анти-, противо- и др.; ne-, bez-, anti-, proti-, kontra-, vzdoro-, truc-); 5) a fundamentally different later phase of existence (мета-, пост-, после-; post-, po-); 6) surpassing the ontological framework of the standard (гипер-, транс-, сверх-;hyper-, nad-, trans-). The interaction and competition of the given formants is described with the use of the notion of semantic-derivational category(hereinafter SDC), which is formed by a group of formation categories on the basis of sematic entity (E. Kad’kalova. Semantika kak faktor razvitiya slovoobrazovatel'nyh struktur. V: Sootnoshenie sinhronii i diahronii v yazykovoj ehvolyucii. Uzhgorod, 1991).
According to the result of the research, the most universal means to express discrepancy with the reality (standard or the speaker’s idea of the norm) in both languages is prefix псевдо- (pseudo-). Having a stronger stylistic potential, and potential to form collocations, it participates in the formation of both terms and evaluative nominations. This morpheme is used in both corpora twice as often as the next most frequent element (kvazi-/quasi- for the Czech language, and лже- for Russian). Moreover, it is important to note that out of 543 revealed lexemes with prefix pseudo- in Czech corpus, 417 are mentioned only once (77%). The Russian language has a similar picture: prefix псевдо- can freely collocate with other words, so among the derivatives with this prefix recorded in Russian corpus words with frequency 1 prevail. The majority of low-frequency derivatives with the formantпсевдо- found in the National Russian corpus have not been recorded in Russian dictionaries (ex.: псевдоулыбка, псевдолюбовь, псевдомолодежный).
Functional and stylistic differences have been revealed between isostructural Russian and Czech affixes: the impossibility to form terms with affix lži- in Czech, while in Russian it is one of the most frequent term-markers (лжеакация,лжелиственница). Similarly, prefix па- (пагруздь), having a more marginal character in Russian, has a wider use in Czech, where it can also form neologisms (paargument, paslovo). A number of non-borrowed prefixoids, converted from different other parts of speech and not participating in the formation of terms is characteristic of Czech. The most frequent of them are rádoby- and skoro-:rádobyherec ‘pseudo-actor’, skoromanžel ‘nearly husband’, followed by také-/taky-,téměř-, jako-/jakoby-, which differ in the degree of expressiveness.
Conclusion
In both languages, formants and models of word-formation can express discrepancy with the reality and the norm of any object or its features, denoted by the motivational base of the derived word, subtly differentiating possible discrepancies. This important trait of derivational means in the analyzed semantics explains their high usage in both compared languages. The core of the corresponding SDC is formed by the derivatives with Greek and Latin affixesпсевдо-, квази-, -оид, pseudo-, kvazi-/quasi-, -oid, and in addition, лже-considered as a core element in Russian. Word-formation inventory of the closer and further periphery of the given SDC reveals both similarities and differences of formants in Russian and Czech in terms of their origin, semantics, functional and stylistic load.
The affixes in question can semantically drift together, forming synonymic derivatives, which can denote the same object and even be used in the framework of the same syntagma (for example, there are numerous cases of such use of lexemes: псевдонаука, квазинаука, ненаука, лженаука, антинаука in Russian, andpseudověda, pavěda, antivěda, nevěda in Czech). The word-formation study based on semantic footing also reveals the possibility of convergence and overlapping within the analized semantic-derivational categories from other SDC. In both languages, the activity of certain models is growing, for instance those with prefixанти-, anti- meaning ‘nonequivalence with certain similarity’, often with a positive connotation and further term formation (антишкола, антикафе, anticirkus, antiromán).
The study of how and by what means semantics of implausibility and discrepancy with the norm is objectivized is especially important today, when any information can be faked and spread regardless if it is true or not. Our research contributes to the study of a finely differentiated system of marking of such discrepancies in Russian and Czech.